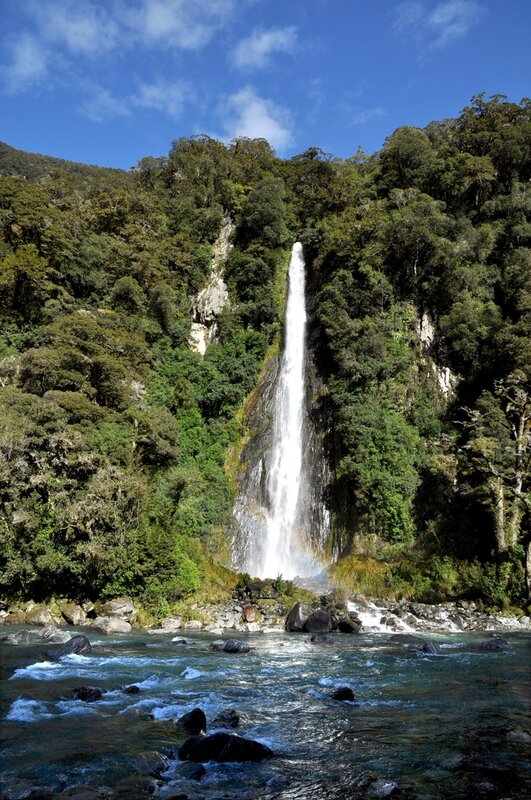Самолет летел над безбрежным Тихим Океаном уже 10-й час.Через два часа прилетаем!
Стюардессы начали разносить анкеты для тех, кто не является гражданином Новой Зеландии. Боже, сколько там ограничений. К ввозу категорически запрещены все продукты органического происхождения (фрукты, овощи, семена, крупы, молочные и мясные продукты). Крупным шрифтом выделено, что если таковые продукты имеются, и вы сокроете их наличие, то вас ждет штраф до 100.000 долларов или 5 лет тюрьмы.
Также полагалось задекларировать обувь для ходьбы в лесах, и вообще указать, бывали ли мы в последние 3 недели на природе. Дело в том, что европейцы, заселявшие в 17-м веке Новую Зеландию, бывшую в то время царством густой растительности и уникальных птиц, нещадно вырубали леса под пастбища и завозили европейские виды птиц и животных. Когда от природы почти ничего не осталось, люди одумались, и начали маниакально охранять уцелевшие эндемичные виды флоры и фауны.
Мы честно указали в декларации горные ботинки, в которых гуляли по лесу, а также растворимое кофе в пакетиках и мясной соус для риса, купленный в Японии. Ботинки у нас попросили достать из чемоданов, и отнесли на дезинфекцию, кофе и соус милостиво разрешили пронести.
На паспортном контроле мужчина долго и недоверчиво разглядывал фотографии в паспортах, сличал их и оригиналом лица, спрашивал, зачем же мы приехали сюда. С целью туризма, отвечали мы. Мужчину этот ответ явно не устроил, но он нехотя отдал паспорта, не позабыв напомнить, что визы у нас действительны в течении 30 дней и не больше.
Ну все, все препоны и рогатки пройдены, мы на краю света в Новой Зеландии! В этот раз нас ждал автомобильный тур по заранее проложенному маршруту по Северному и Южному острову.

На выходе из аэропорта нас встретил водитель из турагенства, мы загрузились в машину и поехали в наш мотель. Было солнечное утро, и хотя на дворе стоял апрель, по асфальту шуршали желтые листья. Мы ехали по пригороду Окленда, мимо небольших домиков и бегающих по тротуарам людей в спортивной форме. Вся обстановка очень напоминала Подмосковье в сентябре, в период бабьего лета.
Около мотеля водитель вручил нам увесистый атлас дорог Новой Зеландии и пачку ваучеров на мотели и гостиницы. Также нам предоставлялся мобильный телефон с местной сим-картой, чтобы в случае проишествия звонить в агенство или в аварийные службы. По окончании путешествия этот телефон надо было положить в приложенный конверт с адресом и бросить в почтовый ящик. Водитель уехал, и больше в контакт с представителями принимающего турагенства мы не вступали.
Арендованную машину нам предстояло получить только на следующий день, а день прилета полагался на адаптацию. Мы пошли изучать Окленд.
Окленд-город небольшой, хоть и самый крупный в стране.

Чтобы обойти весь центр хватит одного часа. На пристани можно купить билеты на паромы, плавающие на разные острова расположенные вокруг Окленда. Но мы добрались до пристани уже поздно, все билеты были проданы. В кассе нам посоветовали сходить в аквариум, куда ходил бесплатный шатл. В рекламном проспекте было красочно описано, что в этом уникальном аквариуме, помимо завораживающего подводного мира можно увидеть колонию императорских пингвинов и познакомиться с антарктической фауной. Туда мы и направились. Аквариум располагался на берегу красивой бухты, с видом на центр города и белоснежными яхтми плавающими в изумрудной воде.



Но сам аквариум нам не понравился. Пингвины конечно, были великолепны.Но увидеть их можно было только через замызганное стекло трамвайчика курсирующего вокруг вольера, а антарктическая фауна была представлена пластмассовыми муляжами акулы косатки и морского котика. Да и сам аквариум был какой-то темный и мрачный.
Потом мы купили продуктов в супермаркете, чтобы провести вечер дома. В магазине меня несколько удивило наличие огромного количества импортных овощей и фруктов, намного дешевле, чем местные, а также отсутствие нормального молока, несмотря на очень развитое сельское хозяйства. Потом я уже выяснила, что все новозеландцы помешаны на здоровом образе жизни, и молоко пьют только обезжиренное. Зато во всех магазинах много баранины, которая выше всяческих похвал.
Апартаменты у нас были роскошные, с огромной гостиной, спальней и кухней, напичканной всевозможной техникой и посудой. В этих апартаментах нам было отведено две ночи.
На следующее утро представители "Eurocar" подогнали машину прямо у подъезду мотеля. В наш сегодняшний план входило объехать северную часть острова с востока на запад. Поплутав с получаса в городе и освоившись с левосторонним движением мы выехали на автобан. Погода была прекрасной, осеннее солнце припекало, а по обочинам разгуливали длинноногие синие курицы.


Местные жители называют этих птиц Пукеко, а по-русски они называются султанки.
Первая наша остановка была на полуострове Шекспира, где располагался небольшой национальный парк. Но в парк мы не попали, и просто погуляли по пустынному пляжу восточного побережья.

Несмотря на то, что было воскресенье, людей почти не было, только серебристые чайки с голубыми глазами слетелись к нам в надежде на угощение.

Надежды чаек оправдались сполна, я скормила им весь запас хлеба, что был у меня с собой. И потом они еще долго семенили вслед за мной, выкрикивая что-то на своем чаечьем языке.
Было тихо, спокойно, безветренно.. Океан серебрился в солнечных бликах.

Жалко было расставаться с этим местом, но нас ждали новые открытия. По пути к западному побережью в центре острова мы набрели на заповедный лес из деревьев Каури.

Новозеландское каури, или Агатис южный, является самым крупным в Новой Зеландии видом деревьев, в высоту до 50 м и обхватом ствола до 16 метров. Это один из древнейших видов хвойных деревьев, переживший динозавров и встречавшийся уже во время юрского периода (примерно 150 миллионов лет назад). Эти деревья очень активно вырубались, для использования в мебельной промышленности и постройки домов. Теперь, то что осталось, тщательно охраняется. При входе в лес стоит бутылочка с водой и табличка с просьбой помыть обувь, не дай бог занесешь в лес какие-нибудь нехорошие семена. По лесу проложена деревянная дорожка, сходить с которой строго не рекомендуется.

А сам лес завораживает. Высокие деревья, закрывающие кронами солнечный свет, огромные папоротники с резными листьями, странные крики птиц в лесной чаще. Если бы не аккуратная дорожка с перилами, то создавалось полное впечатление доисторических лесных дебрей с динозаврами, пасущимися где-то неподалеку.

Мне очень хотелось увидеть уникальных новозеландских птиц, но так толком и не довелось. Только огромный новозеландский голубь, сидел на вершине каури сверкая изумрудным оперением.

Да в кустах прыгали австралийские белоглазки - смешные птички в белых очках.

Солнце клонилось к зениту, а нам еще нужно было доехать до западного побережья, прежде чем вернуться в Окленд. Мы выбрали на карте пляж на Тасмановом море, где было обозначено гнездовье северных олуш - больших морских птиц. Дорога в основном пролегала между пастбищ с пасущимися овцами. В первый день путешествия эти мирные овечьи пейзажи еще вызывали в душе умиление..

К морю мы приехали, когда солнце уже садилось. Этот пляж, в отличии от других был полон народу. Люди купались, и катались на сёрфах.


Заходящее солнце залило песок жидким золотом, устроило небесную феерию.


Чтобы посмотреть на колонию олуш нужно было вскарабкаться по тропинке на горный уступ, находящийся в конце пляжа. Северные олуши - крупные птицы величиной с гуся. Они удивительны тем, что добывая рыбу и кальмаров ныряют в воду с высоты 10—100 м на глубину до 25 м. При нырянии могут развивать скорость у поверхности воды до 140 км/ч. Удар смягчается воздушными мешками, расположенными под шкурой головы.

Вместе со взрослыми птицами сидели птенцы, окраской практически сливаясь с камнями.
Олуши моногамны, сохраняют пару на всю жизнь. Если вылупляется несколько птенцов, то обычно вскармливается только один, самый сильный. А слабых сильный птенец просто выталкивает из гнезда, и они умирают с голоду.. Природа жестока, но что поделаешь, выживает сильнейший.

Некоторые птицы совершали смешной ритуал, расставляя крылья и мотая головой из стороны в сторону, издавая громкое гукание. Для чего они это делали, я не знаю.. Может приветствовали гостей, смотрящих на них со скалы?..

Солнце почти зашло, олуши устраивались на ночлег спрятав клювы в пушистые перья.
Пора было возвращаться и нам.
(продолжение следует)